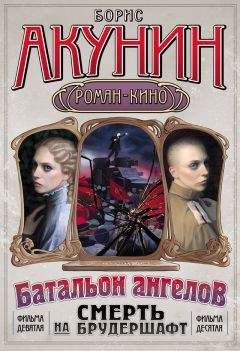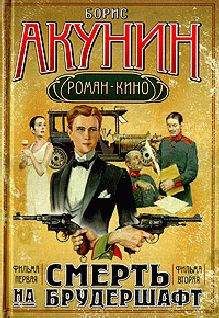Ее спутник кивнул:
— За границей вы засиделись, вот что. Издали плохо видать. У нас там в каждом хлебном «хвосте» толковали, что царю Николашке с царицей Сашкой скоро карачун. Куда мы идем-то, товарищ Волжанка?
— Пришли уже.
В угловом доме, расположенном напротив кирхи, из распахнутой двери пахло кислой капустой и свежесваренным пивом.
— Пивнушка, что ли? «Цум вейсен шван», — прочел товарищ Кожухов витиеватую надпись на вывеске. — У белой свиньи? Нет, «свинья» — «швайн».
— «У белого лебедя». Да, это рабочая пивная. Не удивляйтесь. Здесь это традиция — проводить собрания и даже идеологические диспуты в пивных. Никто при этом не напивается, все трезвые.
Они вошли в чистенькую залу с низким потолком. Товарищ Кожухов оглядел столы с белыми скатертями, аккуратно одетых людей, переговаривающихся вполголоса. Покачал головой:
— Это рабочие? Ну уж здесь-то точно пролетарской революции не дождешься.
— Ничего, мы поможем. Идем, идем. У нас тут своя комната, так и называется — «Sibirien», «Сибирь». Вон за той дверью.
В «Сибири»
Зепп вошел первым, потому что пропускать вперед «ошибку природы» было бы неосторожно — оскорбится. Пока он вел себя с нею правильно, Волжанка ему даже два раза улыбнулась: непривычная к этому маневру деревянная физиономия будто шла трещинами. А ведь, если приглядеться, не такая уж уродина. Ее бы приодеть да причесать — была бы женщина как женщина.
Войдя первым, Теофельс не только продемонстрировал межполовое равенство, но и получил пару лишних секунд, чтобы сориентироваться, идентифицировать фигурантов. Они молча уставились на чужака, потом перевели глаза на Волжанку, и за эти несколько мгновений Зепп срисовал всех, кто сидел за столом в крошечном зальчике.
Четыре человека из ближнего окружения Лысого. На каждого есть досье.
Невысокий, коренастый, с венчиком рыжеватых волос вокруг багровой плеши — это Людвиг Зонн, из швейцарских эсдэков. Цюрихский ангел-хранитель русских большевиков. Есть особая категория европейцев: русофилы-романтики. Приедет такой человек в Россию и влюбится. Просторы, сильные чувства, размашистые люди. В общем, полная антиевропа, а противоположности, как известно, притягиваются. Поскольку герр Зонн впервые попал в Россию во время прошлой революции, то влюбился в революционеров. И сам им стал. Швейцарский революционер — звучит смешно. Как пудель-людоед.
Улыбчивый, славный молодой человек с редеющими волосами и мягкой бороденкой — Ларион Малышев, партийная кличка «Малыш». Тоже романтик, но в ином роде. Он-то русский-разрусский, хоть в синематограф на роль Алеши Карамазова или князя Мышкина бери. Такие идут в революцию, плененные красотой идеи о рае на земле. Плениться слюнявой идеей нетрудно, если у человека родители — старые социалисты и вырос он в эмиграции, откуда так умилительно взирать на страдающую родину. При этом Малыш очень неглуп, прекрасно образован, считается перспективным теоретиком марксизма. Лысый его отличает и, кажется, даже любит — насколько способны любить мегаломаньяки с мессианским комплексом. А уж Малыш на своего кумира прямо молится. Бородку подстригает точно так же и даже слегка подкартавливает.
Кисломордый простачок с жидкими усишками — товарищ Железнов. Псевдоним, конечно. На самом деле Парфен Тюлькин (нет, Тюнькин), редкий среди большевиков тип потомственного плебея. Лысый, которого партийцы любовно называют «Старик», таких лелеет и бережет, а то как же авангарду рабочего класса да без пролетариев? Если РСДРП придет к власти, быть товарищу Железнову министром социальной справедливости или еще чего-нибудь трескучего, но малозначительного. Согласно агентурной характеристике, самолюбив и недалек. Вот кого нужно было выбирать для «входа», а не эту вяленую тарань. Дураком, да еще самолюбивым, манипулировать нетрудно.
Или, быть может, имело смысл поработать с Семеном Блюмом (журналистский псевдоним «Рубанов»). Этот-то отнюдь не дурак, но зато прагматик и циник. Не раз переходил из партии в партию, а некоторое время назад пристроился к большевикам, потому что унюхал своим монументальным носом аромат грядущих перемен. Лысый товарищу Рубанову не доверяет, но ценит за остроту пера и блестящие полемические способности. С умным человеком нужно вести игру в открытую. Когда у тебя на руках сильная карта, выкладываешь козыри — партнер смотрит, оценивает, и можно не шлепать по столу. Рубанов — игрок бывалый. Сразу сообразил бы, что во всех смыслах интересней сотрудничать с теми, кто заказывает музыку, а не с теми, кто ее исполняет.
Блюм поглядывал на Зеппа через очки насмешливо и одобрительно, будто умел читать мысли. Одной рукой ерошил кудрявую шевелюру, в другой дымилась трубка.
«Пожалуй, еще не поздно переориентироваться», — сказал себе Теофельс, продолжая рассказывать про то, как готовятся к встрече вождя выборгские товарищи.
Мысленную работу по инвентаризации присутствующих, начатую еще с порога, он заканчивал уже во время разговора о российских делах. Одно другому не мешало.
Слушать, не перебивая, русские не умеют. Зепп хорошо это знал и рассчитывал, что долго распинаться ему не дадут. Он, конечно, подготовился — вызубрил данные обо всех финляндских большевиках, но жалко метать бисер в пивнушке, перед массовкой. Были в окружении Лысого люди и посерьезней. Однако ничего не попишешь, сразу к ним не подобраться. «Вход» ведет в «переднюю», где Теофельс в данную минуту и находился. Иначе в святая святых большевистского чертога не проникнешь.
Какой сильный характер!
— Думал Малыш, любуясь тем, как говорит человек из России: спокойно, обыденно, без рисовки. А ведь чего только не повидал, через какие только испытания не прошел.
Притом не интеллигент какой-нибудь. Из самой что ни есть народной гущи, дошел до правды собственным умом, учился на ошибках и платил за них кровью.
— Вы как к большевизму пришли? — спросил Малыш.
Обстоятельный Кожухов ответил не сразу, словно только что задумался над этим вопросом.
— Как сказать… В революции-то я давно. Еще в девятьсот пятом дружинником был, в жандармов стрелял. Но мне тогда боевики больше нравились, по молодой дури. И на каторге я всё больше анархистов держался. Ребята они задорные, смелые. Слушал их, разинув рот. — Кожухов усмехнулся на себя прежнего. — В четырнадцатом году, из ссылки уже, запросился на фронт, отечество защищать. Но два года в окопах да германская пуля прочистили мне мозги. Разъяснили, на чьей стороне правда. Я — рабочая кость, с большевиками мне сподручней.
Малыш жадно на него смотрел. В последнее время он стал заново приглядываться ко всем товарищам, пытаясь представить, кто как себя проявит там, на Родине, в горниле революции. И получалось, что все, буквально все годятся для будущих испытаний лучше, чем он: и Железнов, и Волжанка, и Рубанов. Про Грача и говорить нечего. Кожухов тоже, конечно, будет там в своей стихии. Как бы научиться смотреть на людей вот этак: прямо, твердо, без вызова, но и без желания понравиться.
Очень уж Малыш боялся, что в Петрограде опозорится со своим смешным идеализмом, дрожанием в голосе, европейским чистоплюйством. Скомпрометировать дело, подвести товарищей — вот что страшно. А ужасней всего, если разочаруешь Старика.
Настоящий русский пролетарий
— Думал Зонн. — Крепкий и несгибаемый, как закаленный морозами сибирский дуб. Видно, что не привык болтать языком. Мучаем мы его своими расспросами.
И все же не удержался, спросил про то, что вызывало самый жгучий интерес:
— Вы, когда боевик, делали акции? Экспроприацион, аттентат?
По-русски Людвиг говорил не очень хорошо. Трудный язык. Кожухов не понял, и товарищ Волжанка пришла на помощь:
— Товарищ Зонн спрашивает: когда вы были боевиком, доводилось вам участвовать в экспроприациях или покушениях?
Кожухов наморщил коротковатый славянский нос. Ответил неохотно:
— И эксы проводил, и в губернатора палил. Что теперь вспоминать?
Такая скромность Зонну ужасно понравилась. Конечно, программа большевистской партии осуждает методику индивидуального террора, но революционер, стрелявший в губернатора — это настоящий герой. Потом можно всю жизнь рассказывать и гордиться. А товарищ Кожухов этого вроде как стесняется.
— Это очень хорошо, — сказал Людвиг. — Это теперь пригодится. Мы в России будем стрелять, много стрелять. Революция только начинается.
Но товарищ Кожухов поддержки не принял.
— Губернатора стрелять — никакая не революция. Одного грохнули — другого назначили, хуже прежнего. Говорю же, молодой я дурак был.
Товарищ Железнов, тоже настоящий русский пролетарий, спросил приезжего с кривой улыбкой:
— А теперь, выходит, умный стал?
Что за шиш с горы?
— Думал Железнов. Прощупать надо, что ты за фрукт.
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов] [только текст]](https://cdn.my-library.info/books/181548/181548.jpg)
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов]](https://cdn.my-library.info/books/181590/181590.jpg)